Нет ничего более вечного чем склеенное синей изолентой, Текст Вадима Скворцова "Календарная Пятница". Игольница #2
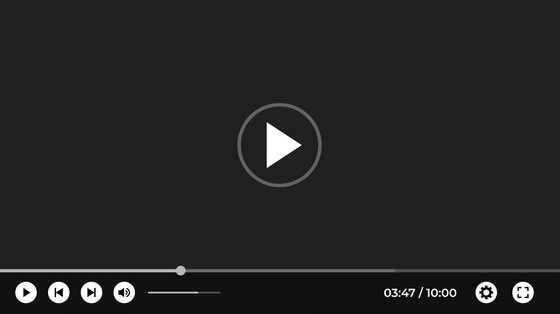
Мужик едет на встречу, опаздывает, нервничает, не может найти место припарковаться. Потрескался полосками шириной по 0. Тогда ей следует ударить своего избранника. Тут всё зависит от человека: вот Эдуардыч придёт, так за глотков пять опустошит, а у меня всегда девять.
После кучи потраченного времени на прочтение документации, я уже готов выколоть себе глаза. Давайте представим, что я решил сделать шкафчик для специй. Я уже делал небольшие поделки из дерева и думаю, что знаю, что мне нужно: немного дощечек и несколько базовых инструментов: рулетка, пила, уровень и молоток. Если бы я строил целый дом, а не просто шкафчик для специй, то мне все также требовались бы рулетка, пила, уровень и молоток не считая остального.
Итак, я иду в магазин за инструментами и спрашиваю продавца, где я могу найти молоток. Это старомодно.
Я был очень удивлен и спросил почему. Кувалды, столярные молотки, с круглым бойком и т. Что если Вы купите один тип молотка, а потом поймете, что Вам нужен другой? Вам придется покупать отдельный молоток для следующей задачи. Как выяснилось, большинство людей хотят иметь один молоток, который бы справлялся со всеми типами задач, с которыми можно столкнуться. Ну, звучит разумно. Можете показать мне такой Универсальный Молоток? Мы их больше не продаем.
Они устарели. С Ваших слов я понял, что Универсальный Молоток — это технология будущего. Забивать гвозди кувалдой не очень эффективно. И если Вы хотите убить свою бывшую девушку, то ничто не заменит молотка с круглым бойком. Но если никто больше не покупает Универсальные Молотки и если Вы больше не продаете все старомодные типы молотков, то какие же молотки Вы продаете? Всегда лучше использовать нужный тип молотка для работы.
Поэтому, мы начали продавать фабрики молотков, способные создать любой молоток, какой Вам нужен.
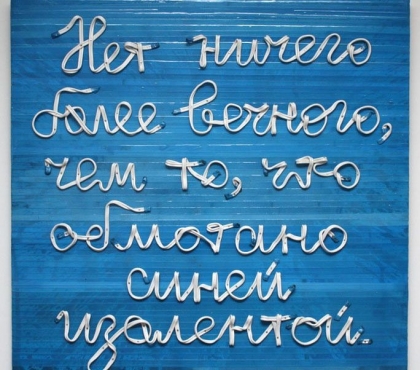
Все что Вам нужно — это укомплектовать фабрику рабочими, запустить механизм, купить сырье, оплатить расходы и — БАЦ — у Вас есть именно такой молоток, какой Вам нужен. Потому что мы их больше не продаем. Он делал это с такой злостью и агрессией, что мне казалось, будто поёт он про меня и обвиняет не в том, что ему приходится петь про дурачка, а в том, что дурачок я сам. Утро всегда полно сожаления о том, что страница календаря в очередной раз перевернута и что каждое последующее утро страницы календаря будут всё уменьшаться и уменьшаться.
От этого утром голова становится в разы тяжелее обычного, бывает, что она тяжела настолько, что не находишь сил поднять ее с подушки. После второй кружки чая и часа созерцания на кровати я надел свои джинсы с обвисшими коленками и ступил ногами на горячий асфальт. Погода была нервной. Сквозь тёмно-синие тучи прорезалось палящее солнце. Словно небо разделилось на два фронта, где грозные тучи собирались вот-вот разгневаться, а солнце стремилось всё сильнее растопить наши мутные головы.
Ремень сумки натирал мозоль на моём плече, а пот на спине проступал утренней росой. Погода была волнительной, как дядя Петя, занимающий уже вторую бутылку водки за сегодняшнее утро в местном ларьке. Казалось бы, сейчас утро пятницы календарной среды, все варятся в пробках, толпятся в автобусах, а дядя Петя уже стоит за второй бутылкой. Даже петухи начинаю горланить позже, чем дядя Петя встает за прозрачной.
У дяди не было ни календаря, ни времени — он был свободным, и каждый день недели был для него одной большой субботой, посему дяде было все равно на то, кто и куда спешит. Он был свободным, и сковывали его лишь грани стакана. Когда твоя жизнь становится одной большой субботой и раздумьем над тем, кто есть я, а кто они, то не только ты сам, но и все существование становится тупым и ватным, как ноги во снах, когда ты слепо бежишь от убийцы, пытаясь скрыться от надвигающейся смерти за кирпичной стеной.
Только сейчас ты и убийца, и жертва, и сам от себя бежишь, и себя догоняешь. Иногда «стандартному» человеку приходится пережить несколько суббот кряду, тогда он сначала становится очень радостным и веселым от того, что ему больше не придётся вставать от звона ненавистного будильника, но со временем он всё сильнее забывается и запутывается, он уже не видит разницы между календарным днём и настоящим.
Чтобы избавить человека от этого, необходимо дать хорошенький подзатыльник, тогда он очнётся и поймёт, кто он и где он, но вот когда твоей субботе нет конца, то никакой подзатыльник не поможет, и тебе становится страшно. Мы с дядей Петей стояли подле ларька, где он распивал горькую, не закусывая, а я курил и поддакивал ему кивками, облокотившись о стену.
Вот эти три типа: трезвенник, подвыпивший и «мы». О «нас» я говорить не стану, — твердил дядя Петя, — все про нас и так всё знают, а большего и знать не хотят, да и что тут скажешь. Первый: трезвенник — самый странный и самый редкий вид человека, считается изгоем среди нас, он либо ни разу в своей жизни не пробовал пригубить пару градусов, видимо, боится или жена не разрешает.
В общем, каждый трезвенник очень странный, его походка и отстранённость меня даже пугает. У меня сосед такой, так когда он мимо меня своим быстрым и нервным шагом проходит, пытаясь быть незаметным и избежать возможности поздороваться со мной даже ради напыщенных манер, возникает ощущение, что в своей сумке он несёт не бумаги или документы, а расчленённую маленькую девочку. Ух, страшно мне на таких смотреть. А его походка и пугает и раздражает одновременно, прям всем своим видом показывает, что ему противно даже смотреть в мою сторону!
Трезвенник вечером смотрит новости и, поужинав, ложится спать. Второй: подвыпивший. Подвыпивший — самый распространённый вид, который по-доброму здоровается с нами и приобщается к нам по субботам. Можно даже сказать, что подвыпивший становится выпившим в субботу, а в будние дни ему приходится быть трезвенником, иначе получишь по голове. Чтобы сохранить этот баланс, нужно иметь либо опору и груз за плечами, либо страх не свалиться в пропасть.
Подвыпивший будет весел с бутылочки пива, а от портвейна уже сляжет. Он вечером выпивает одну или две полторашки и ложится навеселе. Третий: мы. Мы это мы, что тут ещё говорить. Вот я тут, перед тобой, вон, Славка плетётся, мы — гниющие раны на теле общества. Если бы всё общество состояло из трезвенников, то стоило бы им дать хоть малейшую власть в руки, они бы нас прямо на улицах расстреливали.
Мы вечером спать не ложимся, мы вечером падаем. Дядя Петя, по батюшке Петрович, самый старый местный пьяница, седая борода и редкие волосы, пожелтевшие от смога сигарет усы. Он был молчаливым и постоянно пьяным, но стоило заговорить с ним о чём-то более, так он всё своё мудрое нутро наружу выворачивал.
Чего же хорошего в валянии в грязи? Бывает, вот выпьешь так, что совсем себя не чувствуешь и не то что встать, а даже муху со спины прогнать не можешь. Выпьешь, лежишь на сырой траве и смотришь в голубое небо, в такие мгновенья оно становится глубоким и чистым. В трезвом состоянии небо заметить очень сложно, ибо взор всегда нацелен вниз, на пыльную дорогу и чередующиеся вкрапления щебенки. Даже если поднимешь голову вверх и остановишь свой взгляд на небе, то всё равно небо останется небом, а ты — самим собой.
В трезвом состоянии мне тошно смотреть вверх, потому что вижу лишь бесконечную стаю мерцающих белых точек, плавающих по моей сетчатке, они так быстро и хаотично носятся, что меня начинает тошнить. Поэтому трезвым я почти не бываю, а если бываю, то никогда не поднимаю голову. Дядя Петя резко сменил воодушевлённое лицо на печальное и стал наполнять рюмку. Порой мы не можем взглянуть на родного человека, а уж о небе и говорить не стоит. С этими словами Петр Петрович опрокинул рюмку, занюхав рукавом.
Он сделал такой тяжёлый глоток, будто с несколькими градусами спиртного он проглотил и всю свою горечь. Дядя попросил у меня сигарету. Он, пошатнувшись, закурил и продолжил. Он жаловался мне на продавщицу, тётю Веру. Тётя Вера — продавщица в нашем ларьке, куда наведываются постоянные «синие» посетители. Характер у неё своенравный и строгий, вдруг что не так — она тебя своими словесными крюками всего проткнёт, да вышвырнет.
Фамилия ей была под стать — Щепина. Она хоть стервозная и замысловатая, но это всё только лишь от доброты душевной. Заходят к ней бывалые, а она их пилит до посинения, но бутылку даст, а те уж такого наслушаются, что бутылка эта им противна становится. Иногда даже уходишь от неё ни с чем. Мне даже радостно слушать её, правду ведь говорит. Некоторым дашь денег, так они тебе готовы хоть смерть подарить, хоть ад, а эта заботится о каждом отбросе. Мы с Петром Петровичем простояли так довольно долго, я докуривал вторую сигарету, а дядя пропустил рюмку-другую.
Он говорил про себя: «Я пьянею телом, а не духом». Посему даже когда он в полном бреду валяется на траве, и его кто-нибудь спрашивает: «Петьк, ты чего тут разлёгся? А сейчас я лежу, чтобы отдохнуть, ведь устал я, устал, мать». На такие реплики все обычно отмахивались рукой и думали, мол, чёрт с ним, пускай валяется, дурак старый.
Я видел, как ноги Петровича подкашиваются, и поволок его на ближайшую лавочку. Весь день впустую. Сейчас усну где-нибудь, а проснусь только завтра, и обидно мне будет, что ничего и не было. Проснулся, выпил две бутылки, опять уснул. Когда заходишь в знакомый, то сразу смотришь на полочку и думаешь, что же сегодня эдакого испробовать, а в незнакомых всё иначе.
По женщине сразу видно, какая она. Если у неё квадратные глаза, угловатое лицо и тоненькие, как берега Суры, губы, то и сама она угловатая. Мы с ней словно бы опускались в ад на неисправном, подвигавшемся рывками, лифте. Лишь пройти мимо онкологического диспансера, — это уже экзамен на прочность психики. Который способен выявить у внешне здорового человека скрытые ранее неврозы.

В любом случае, ваше настроение возле этого особого здания резко переменится далеко не в лучшую сторону. И не стоит в этот момент пытаться напустить на себя нарочитое равнодушие или глубинную философичность восприятия жизни. Может даже случиться, что человек, впервые увидев здешнюю вывеску с гиппократовским термином «онкология», внезапно ощутит удушье, споткнется или едва не попадет под машину.
Я никогда не видел собравшихся вместе в таком количестве людей, должных вскоре мучительно умереть. Но, несмотря ни на что, они при этом еще могли и улыбнуться вам, и подбодрить новичка, и успокоить своих отчаявшихся родственников. Не им ли было не знать, что смерть есть такое же естественное состояние организма, как влюбленность, вдохновение или чувство сытости, наконец?..
Мы с Верой поднялись на третий этаж, робко уступая дорогу идущим навстречу больным. Если между них оказывались здоровые люди, то они, как бросилось мне в глаза, изо всех сил старались выделить себя из этой бесконечной толпы обреченных и каким-нибудь образом, но подчеркнуть свое исключительное здоровье: кто-то излишней прыгучестью по ступенькам, вертлявостью, кто-то неуклюжей улыбчивостью или нелепым напеванием модного мотивчика.
Я, мол, еще вполне молодец и к здешней когорте смерти никакого отношения не имею. Я тут вовсе по моральным причинам из сострадательного сопровождения умирающего или в здешнюю аптеку, в здешний буфет решил заскочить: а что как цены тут дешевле? Должно же быть какое-то послабление человеку накануне перехода в Вечность? Только накося выкуси… Бывает, случаются тут иногда и такие люди, которых переполненные завтрашними покойниками коридоры вдохновляют чуть ли не на миссионерское проповедничество.
Вот доставил такой взволнованный, взмокревший человек своего полумертвого родственника к дверям приемного отделения, огляделся, заценил общую картину, сострадательно проникся ею, и, возгоревшись душой, тотчас пылко приступил прямо-таки командирски внушать здешним ожидателям смерти: «Верить надо в лучшее!
Да здравствует Оптимизм! Вдохновляйтесь радостью! Не сдаваться! Резервы человека безграничны! Я читал в Интернете, что через три года во всех аптеках появятся дешевые лекарства ото всех видов рака! Его создали на космической станции и уже успешно испытывают на людях! Скажем, пусть это будет с виду еще вполне крепкий мужик с раскоряченными ногами-пнями и будто из чугуна отлитыми кулаками. Когда у него месяц назад продиагностировали рак желудка четвертой степени и определили ему жить не более полгода, он сгоряча не нашел ничего лучше, чтобы доказать свое могучее здоровье, которому сноса быть никак не может, так это бесшабашно поднять доктора над собой на обеих руках и пританцовывать с ним вприсядку, еще и ядрено подпевая: «Ехал грека через реку, видит грека в реке — рак!
Сунул грека руку в реку, рак за руку греку — цап! Через три года всех нас вылечат? Да кто же такое допустит? Завтра же такого твоего открывателя закроют. В лучшем случае в асфальт закатают. Иначе он всех лекарственных олигархов и их прикормышей по миру пустит. Потом же и государству невыгодно нас спасать! Лишние пенсионеры ему не в радость. Так что всем по уму и по разумению желательно, чтобы старики как можно скорее помирали! Вона ведь «скорая» к ним по негласной инструкции в последнюю очередь едет и вовсе без мигалки с сиреной».
Господи, благодарю Тебя за все, что со мною будет, ибо твердо верю, что любящим Тебя все содействует ко благу. Осторожно, с оглядкой, чтобы никого не потревожить и не нарушить еще неведомых нам правил этого заведения, мы с Верой аккуратно стали у стены кабинета с сурово краткой табличкой «ВЛК». При всем при том эта аббревиатура смотрится крайне внушительно и тревожно.
Мест не было. Стояли, притулившись по стенам, не мы одни. Врачебно-летная комиссия? Так нам тогда не сюда, Верунь… — нервозно усмехнулся я, чтобы как-то разрядить тутошнее напряжение. Его, знаете, невольно вызывало ощущение, что за этой дверью кто-то сейчас колдует, жить нам дальше или лучше откровенно помирать?.. Сдержанно вздохнув, я мысленно пожелал ей невозможного выздоровления.
Прием больных по времени вот-вот должны были начать принимать. Уже торопливо зашли и сели вдумчиво изучать их крайние или последние в жизни?
Будто ангелы- хранители слетелись. Вернее, судя по строгости их лиц, они больше могли проходить по части тех представителей сил небесных, кажется, Архангелов, которые разводят поток душ в рай и в ад. При всем при том в их умной строгой сосредоточенности было нечто от солидных бывалых преферансистов, привычно севших расписать джентльменскую пульку. Какая-то бабулька, совсем видно сдавшая, так даже перекрестилась на врачей этих, но только смогла одолеть два первых движения рукой, а на левое плечо и правое плечо ей сил недостало.
Вечный час мы ждали трубный глас провозвестный. Это наш был канун нашего местного больничного апокалипсиса. Внутри атома материя не существует в определенных местах, а, скорее, «может существовать»; атомные явления не происходят в определенных местах и определенным образом, наверняка, а, скорее, «могут происходить».
Сидим и стоим все с какой-то отчаянностью, губы напряженно подобрав, а многие так и вовсе переутомлено зажмурясь: затравленные, горестные, обиженные, отупевшие, очень хорошо и очень плохо одетые — все как один скукоженные, согнутые, вывернутые или перекошенные.
Здешние лампы светят ярко, бодро, да и Солнце июльское еще задорно прибавляет освещенности коридорам онкодиспансера — однако здесь, несмотря ни на что, будто бы царят глухие унылые сумерки. Еще и собака плаксиво подвывает под окнами, словно палкой побитая, так что из последних сил. И тут вдруг аккуратно зашла в этот наш предбанник-чистилище какая-то юная, вызывающе лысоголовая худышечка в серебристом комбинезоне, словно бы вовсе пустом.
Так как при ее практически нулевом объеме ему облегать было нечего. Зашла, будто пола не касаясь ножками. Так что точнее сказать, она вплыла, ведь в отличие от всех нас худышечка явно пребывала в состоянии невесомости.
И тихо, молча села, там, где и сесть, казалось бы, из-за тесноты не было никакой возможности. А вот она легко вписалась со своей удивительной, нечеловеческой бестелесностью.
Подбородочек остренький строго, гордо приподняла. Личико аккуратное, но пронзительно бледное, так что при беглом на него взгляде воспринимается сплошным матовым пятном. Только и видны на нем ее черные емкие и какие-то безразмерные глазища. Головушка дерзко, вызывающе блистает бледно-серебристым глянцем. Словно это мода какая-то инопланетная. Такой чистоты кожи вам ни один самый маститый и вдохновенный парикмахер даже опасной отточенной бритвой не устроит.
Ибо голова девчушечки выглядела так, будто волос на ней вообще отродясь никогда не было и быть не могло в силу ее неземного происхождения. Так бывает после химиотерапии, от которой волосы везде исчезают начисто. В общем, через этот блеск девичьей головки над ней словно зыбкий ангельский нимб мерцал. Хотя, не исключено, что его могло сформировать радиоактивное свечение, вызванное гамма-лучами, которого здешние рентгенологи, как видно, ей более чем щедро отпустили, борясь за ее жизнь не на шутку.
Я ни в какую не хотел поверить, что причиной ангельского нимба бестелесной девчушечки были здешние потолочные люминесцентные лампы. Ожидая пророческий vere dictum комиссии, мы с Верой исподтишка любовались юной больной и украдкой переживали за нее. Второй час пошел, как доктора-«преферансисты» сортировали больных на операбельных и неоперабельных да составляли оптимистические планы какого-никакого лечения, чтобы выгадать своим пациентам возможность хотя бы минутку лишнюю продержаться на этом белом свете и может быть краешком глаза успеть увидеть в реальности долгожданное начало воплощения планов нашего государства по улучшению качества жизни простого народа.
Людей, то бишь. Мы сидели, замерев, как дети при игре в штандер, ожидая, кого водящий «осалит» мячом. Я неуместно пошутил: — Она такая худенькая, что вполне могла затеряться в нашем перенаселенном предбаннике.
Ее голос прозвучал пугающе глухо, невнятно, как если человек говорит через прижатую ко рту подушку. Я уже знал из здешних разговоров, что ей восемьдесят девять лет и она из придонского казачьего села с лихим названием Бабка. За последние девять лет Прасковья Ивановна перенесла три операции, три курса облучения, четыре — химии, и усмехалась, что ей пора бы орден какой-никакой дать, а медаль «горбатого», мол, у нее уже есть.
Да только схоронили Аннушку как есть на день ее тринадцатилетия… А теперь она уже какой год иногда приходит сюда… Постоит, оглядится и всегда исчезает незаметно. Более того, они у Прасковьи Ивановны как бы даже модными стразами игриво высверкивали.
Печальные здешние сидельцы глухо, болезненно ее поддержали. Одним словом, старожилы диспансера были уверены, что Аннушка реально навещает время от времени, как бы ставшие ей родными, здешние стены. Только видели они ее тут живую или призрачную, полного согласия у них не было.
Начались взволнованные воспоминания. Кто-то однажды с Аннушкой при встрече машинально поздоровался, кто-то испуганно вскрикнул «Чур, меня, чур! Только молча под нимбом своим оглядывается по сторонам, будто что-то, вернее, кого-то, ищет. И была за этим ее посещением со временем обнаружена старожилами характерная примета: является она тому, кто ей понравился.
Но более того, увидевший хоть раз Аннушку, всегда чудесным образом исцелялся. По крайней мере, жил еще достаточно долго.
Никто в мире не понимает квантовую механику — это главное, что нужно о ней знать. Наконец дверь кабинета ВЛК заработала. Еще через час дошла очередь и до моей Веры Константиновны. Консилиум без обиняков решительно и строго объявил ей «срочную операцию». Если бы Вера сейчас стала в приступе отчаяния бить меня головой об стену, я бы, наверное, тоже нисколько не противился этому.
Уже назавтра Вера сидела в кабинете главврача поликлиники для «старших» и «младших» дворян Игоря Аркадьевича Нестерова, моего лучшего школьного товарища. Он, я уверен, всегда помнил и будет помнить, что путь в медицину предопределил ему именно я. Такое не забывается. В пятом классе накануне летних каникул учитель пения Сан Саныч поднял расшалившегося Игорька по нашему тогда — Гарика исполнить в наказание за вертлявость песню «В защиту мира» на слова Ильи Френкеля.
Автора музыки не помню. Так что он не заметил, как я по принятой тогда у нас в классе традиции подставил ему карандаш под усест. Вернее, мизинчиковый карандашный огрызок, слава Богу.
Вот на него будущий главный врач Нестеров и опустился с чувством исполненного долга перед всем миролюбивым человечеством. То есть попросту плюхнулся. Всем своим немалым весом «жирнихоза». С того дня началось его судьбоносное и успешное знакомство с медициной. Игорь Аркадьевич точно знал, где еще есть прекрасные врачи, несмотря на непрекращающиеся реформы в медицине и высшем образовании.
Человечество блуждает в потемках знаний. Н-да… Scio me nihil scire То бишь, я знаю, что ничего не знаю. И все же, все же… Слава Богу, есть некая надежда. Словно бы само провидение вознамерилось Вас спасти и вовремя предупредило о раковом заговоре в организме. Vive valeque! Живи и будь здоров. Вернее, голубушка, живи, живи и будь здорова! Свезло вам, свезло. Если бы не этот «пожарный» профосмотр в вашем университете, милейший, мы вскоре могли Вас потерять… Игорь Аркадьевич потянулся к изящной белой телефонной трубке таким нежным жестом, словно намеревался погладить ее выпуклую стройную спинку: — О Вас позаботится сама Эмма Дмитриевна… — с особым удовольствием проговорил он это имя-отчество.
Больше всего она боялась сейчас внезапно разрыдаться. С явным выходом на некий больший смысл, благодаря изящной ассоциации с некогда популярным «нобелевским» романом Александра Исаевича. Он сию книжицу «Раковый корпус» во время оное, в середине семидесятых, читал еще в самиздатовском варианте на тонкой, вернее, на совсем тонкой, как из тумана сотканной полупрозрачной бумаге.
До сих пор ему помнится тот ее мягкий, трепетный звук, с каким она переворачивалась. Игорь Аркадьевич на минуту вдохновенно, с толикой мальчишеской азартности задумался, а стоит ли сейчас рассказать этой красивой, бледной женщине с таким нежным, жертвенным взглядом, какой был только у дворянок позапрошлого столетия, эту давнишнюю историю его чтения «Ракового корпуса» Солженицына? Ту самую, когда книгу писателя-диссидента ему, тогда еще рядовому практиканту, дал «почитать» на ночь никто иной как курировавший в те времена «дворянскую» поликлинику капитан госбезопасности Василий Васильевич Лиходед.
Сверхзамечательный, доложу я Вам. И мы сейчас ей позвоним! Эмма Дмитриевна не ответила. Я дозвонюсь. В любом случае, там, в больнице, когда Вас положат на операцию, запросто скажите Эмме, что Вы от меня.
Он еще раз поглядел анализы Веры и с силой опустил обе свои руки на стол перед собой: — Вашу болезнь еще можно поймать. Идут через лес. На разгоне.
Рвут меха и душу. Вопрос решен. И так далее под осатаневшую гармошку. Все по очереди. Вместо парня ремень может взять девушка. Тогда ей следует ударить своего избранника. Серьезных ранений не бывало. Вера опустилась на колени перед нашим домашним иконостасом. Я возле него всегда испытываю обостренное чувство вины.
Мне кажется, что иконам в доме такого, как я, обычного, изначально греховного человека, больно находиться. Само собой, к Вере это не относится. Этот домовой иконостас ее рук дело. Она его старательно, душой собирала долгие годы по разным храмам и монастырям.
То есть не просто покупала иконы, а всегда брала ту, с какой у нее неожиданно устанавливалась незримая тонкая связь. Мне показалось, что лики нашего иконостаса сейчас сострадательно смотрят на Веру. Я напряженно молчал. Чтобы не помешать ей услышать их ответ. Ответа не было. Тебе оно надо, Витенька?
И будь что будет. И тогда я рассказал Вере одну историю, которую недавно мельком услышал, натягивая на свою уличную обувь бахилы в предбаннике онкологического диспансера. До сих пор я почему-то не решался это сделать.
Наверное, эта история ждала своего часа. Кажется, он настал. История была про пожилую пару. Идеальную во всех отношениях. Эти муж и жена так любили друг друга, что, несмотря на свои преклонные годы, всегда и везде ходили, держась за руки.
В чести у них было домашнее пение романсов в два голоса, чтение вслух Лермонтова, Чехова или, скажем, Тютчева. А когда у нее вдруг обнаружили неоперабельный рак, он покончил с собой, чтобы не видеть ее смерть. Когда кто-то в семье собирается в командировку, это полдела. Почти незаметная процедура, лишь слегка ускоряющая темп привычной домашней жизни. На порядок суетней предстоящая поездка на дачу. Но ничто не вносит в дом столько хаоса, как тот особый случай, когда кому-то из близких предстоит лечь в больницу.
По крайней мере, у меня создалось именно такое впечатление. Как только Вера принялась складывать вещи, которые будут нужны ей «там», а также с некоторой долей вероятности могут быть нужны ей «там», или могут ни с того ни с сего «там» вдруг потребоваться, я понял, что она заберет в больницу все, что имелось в доме. Как бы там ни было, в центре зала, оттеснив к стене мое кресло и журнальный столик с моей любимой изящной арабской черной вазой, своевольно раскорячилась бродяжная ватага разномастных сумок и пакетов.
Вид у них был просто хулиганский. Я не выдержал, когда Вера извлекла из какого-то тайника два маститых тома мудрых выражений и крылатых фраз человечества.
Я так растерялся, что не сразу смог вспомнить, когда он будет и есть ли он вообще у меня? Я для большей убедительности покосился на календарь.
Я специально купила тебе подарок заранее. Лично я сделала это на тот случай, если не очнусь после наркоза… — тихо проговорила Вера. Я возненавидел себя. Под вечер, как нам было назначено, я привез Веру в онкологическую больницу. Истекал шестой час. До захода Солнца оставалось немало времени, и оно своим предзакатно блескучим, острым светом присутствовало везде.
Июль даже на излете своем донельзя переполнен Солнцем. Оно словно старается про запас, памятуя про будущие глухие сумеречные зимы. Есть ли будущее у нас с Верой?.. Эйнштейн выдвинул постулат: ничто не может двигаться быстрее скорости света. Но квантовая физика доказала: субатомные частицы могут обмениваться информацией мгновенно — находясь друг от друга на любом удалении. Здание больничного корпуса выглядело так, словно оно тоже было поражено раковой опухолью.
И, скорее всего, «неоперабельной»: одна его половина смотрелась вполне прилично со своей перламутровой пластиковой отделкой, другая в затяжном полувековом ожидании ремонта печально выставила наружу свои древние стены из осыпающихся, болезненно трухлявых кирпичей.
Красными они, наверное, были только от стыда за себя. По нашему — сверчок. И так далее. Вам здравствуйте! Чтобы ей легче летелось без обременительного лишнего груза. Я почти час мысленно молился вместе с ней на ступеньках паперти. Хирургическое отделение располагалось на верхнем третьем этаже. Когда мы поднимались, я был показательно вежлив со всеми, кто ни попадался у нас пути: ласково здоровался с каждым, мигом кидался поддержать оступившегося и даже с умилением назвал «бобиком» лежавшую на лестничной площадке невесть откуда взявшуюся огромную грязную черную собаку.
По крайней мере, это вряд ли был Мефистофель, так как нигде поблизости Фауст мной не наблюдался. А когда дежурная сестра приветливо заговорила с нами, я едва сдержался, чтобы не поцеловать ей руку. Одним словом, меня взволнованно подмывало во всем находить здесь такие примеры, которые бы могли убедить Веру, что сюда приходят не на заклание. То есть, всюду жизнь! Почти как на знаменитой картине Николая Ярошенко. Когда Вера приступила переодеваться в больничное, у меня перехватило дыхание.
Я словно бы только сейчас понял, что происходящее с нами не виртуальная игра. Возможно, мы стоим рядом последний раз в этой жизни. Как бы между делом Вера протянула мне какой-то листок. На нем было что-то написано ее новым, неразборчивым почерком, какой появился с тех пор, как она стала много работать на компьютере, строча свою диссертацию о смертной казни.
В любом случае, мне и в голову не пришло брать сюда очки. Я вздохнул.
Конечно, не в первый день после моих похорон. Это моя лучшая подруга. Замечательная женщина. Еще красивая. Лучшей новой жены тебе не найти. Мы с ней эту тему уже обсудили. Вера усмехнулась. Усмешка тоже была строгая. Более чем. Я порвал листок. Мир частиц нельзя разложить на независящие друг от друга мельчайшие составляющие; частица не может быть изолированной. Операция была назначена на утро, но для Веры она началась еще ночью, когда череду ее обычных обрывочных и каких-то мультяшных видений вдруг сменил четкий цветной 3-D сон.
Он явно был с той полки, где мозг хранит до поры до времени ночные «ужастики»: операционная, похожая на внутренности модуля космической станции, — яркие экраны, какие-то фантастические лампы и загадочные приборы.
Все затянуто эфемерной неземной сиреневой дымкой. На ядовито-зеленой простыни, постеленной поверх горчично-желтой клеенки, на никелированном операционном столе мертвенно лежит Вера; рядом озабоченно склонилась над ней с блескучим жалом скальпеля еще одна Вера в синем комбинезоне. А в дверях с волнением и наивным ужасом удивленно смотрит на все происходящее третья Вера, еще школьница, в ее любимом выпускном голубом платье.
Но главная деталь этого сна — из прорези комбинезона на спине второй Веры, занесшей хирургический скальпель, между лопаток торчат маленькие, но какие-то мускулистые крылья с мерцающим матовым отблеском, явно ангельские. Когда Веру утром везли в операционную, я тайком подсмотрел эту процедуру из коридора.
Вера все-таки заметила меня и нежно помахала рукой. Она всегда радовалась, если мы неожиданно встречались. Скажем, одновременно приезжали с работы или пересекались по своим делам в каком-нибудь учреждении. Атом состоит главным образом из пустого пространства. Если увеличить его ядро до размера баскетбольного мяча, то единственный вращающийся вокруг него электрон будет находиться на расстоянии в тридцать километров, а между ядром и электроном — и вовсе ничего.
Так что, глядя вокруг, помните: реальность — это пустота… В операционной, вовсе не похожей на ее космический аналог из сна, за обычной облезлой и слегка приоткрытой в общий коридор дверью, медицинские сестры хирургического отделения готовили инструменты.
Металлический лязг почему-то напоминал мне звук раскладываемых ножей, ложек, вилок и прочих приборов в кафе, в котором некто заказал праздничный ужин, скажем, для встречи одноклассников.
Предстоящая операция, как ни покажется странным, подсознательно воспринималась мной словно некий ритуальный праздник.

Точнее, торжественное жертвоприношение во имя избавления от темной сверхъестественной силы, которая насылает на человечество эти самые атипичные клетки. Необычная болезненная радость и почти истерическое воодушевление нарастали во мне. Я нагло подошел к самым дверям, невзирая на пораженных ужасом моего недопустимого поступка медсестер и нянечек.
Мне никогда не приходило в голову примерить на себя образ Ангела-хранителя. Сейчас мне обостренно захотелось им стать. Я даже вспотел, так это ярко нахлынуло на меня. Мимо в операционную быстро, целенаправленно и в то же время бережно-мягко прошла та самая уникальная Эмма Дмитриевна. В моих глазах сейчас это был не хирург областной больницы, а самый что ни на есть жрец, готовящийся к священному искупительному действу. Я смотрел на нее, как оглашенные и кающиеся, не допущенные к Святому Причастию, смотрели из притвора храма сквозь размазанный блеск свечей и сизую поволоку ладана на высшее таинство Евхаристии.
Эмма Дмитриевна вошла в операционную с облупленной краской на дверях с таким торжественным и радостным выражением на лице, с каким, наверное, монаршие особы входили в блиставший золотом и каррарским белым мрамором тронный зал. Напротив операционной с ее невзрачной дверью был туалет с еще более невзрачными дверями.
Эмма Дмитриевна шла одарить благодатью недужных. Там, где она проходила, все люди, остававшиеся у нее за спиной, вдруг беспричинно чувствовали себя счастливыми. Они словно впадали в эйфорию позитива. Эмма Дмитриевна на миг поглядела на меня своими радостным, смелым взглядом, и я увидел в ее глазах счастливую уверенность в успехе операции. Я тоже почувствовал себя счастливым.
Операция началась в полной тишине. Словно Эмма Дмитриевна, хирургические сестры и Вера для исполнения своих магических ритуалов переместились в некое неведомое запредельное пространство. Наконец я устал прислушиваться к пустоте. Тем более что возле меня остановились женщины из соседней палаты с громким, веселым разговором. Тон в нем задавала уже знакомая мне по предбаннику у кабинета ВЛК полная белолицая старушка о девяносто неполных годах. Та, что из придонского казачьего села с лихим названием Бабка.
Посверкивая перламутром своих вечных зубов, бессмертная забавляла соседок по палате разговором на тему, кому и какого жениха она ныне сыщет. В общем, шел веселый дележ хоть на что-то годных здешних мужиков. Я вдруг вспомнил странную историю с Аннушкой, и почему-то мне захотелось еще раз поточней расспросить про эту девчушечку именно у Карповны, но бабье царство вдруг дружно переместилось в палату договаривать там самые пикантные подробности предстоящего выбора женихов.
Как успел я понять, первым среди них был заместитель главного врача, по всем показателям полнейший красавчик. Шла двадцать первая минута операции. Неожиданно раздался апокалипсический грохот: угрюмая пожилая санитарка на кособокой судорожной тележке везла обратно в столовую после завтрака горы опустошенных больными мисок.
Это они громогласно более чем издавали какофонию абсурда. Мне вдруг показалось, что нет ничего более парадоксального и грустного, как то, что обреченные на смерть здешние пациенты, тем не менее, едят, а некоторые едят с аппетитом. Я с брезгливостью смотрел, как мимо меня подвигается дрожащая гора объедков — недопитые стаканы с нелепым фиолетовым какао, пакетики смятых чайных «утопленников», съежившиеся остатки непонятно какой каши и ажурно надкусанные кусочки хлеба с блестками масла, которое я не решусь в приличном обществе назвать сливочным.
Мне вдруг пришла мысль подхватить эту судорожно ерзающую громозвучную каталку и выбросить в окно. Физик-теоретик Вернер Гейзенберг признавался: «Я помню многочисленные споры с Богом до поздней ночи, завершавшиеся признанием нашей беспомощности; когда после спора я выходил на прогулку в соседний парк, я вновь и вновь задавал себе один и тот же вопрос: «Разве может быть в природе столько абсурда, сколько мы видим в результатах атомных экспериментов?
Мне показалось даже, что голос ее прозвучал возвещающе бодро, почти весело. Я машинально перекрестился. За окном была видна маковка здешней часовенки и призрачно белесый, с фиолетовыми прожилками край тучи: кажется, накатывалась грузным, провисшим валом азартная июльская гроза. Пруток маленькой березки на крыше заброшенного корпуса стационара трепетал очевидней классической в этом плане осины. Судорожно дернулся мой смартфон, заглотив звонок. А ведь он был, кажется, отключен. Ко мне прорвался молодой, перспективный проректор Большов.
Она уже прошла профосмотр?! Напоминаю, иначе мы не допустим ее до работы. Вплоть до увольнения!.. Мы ценим ее заслуги перед университетом. Но забота о здоровье сотрудников у нас должна быть на первом месте!
Операция действительно закончилась. Она длилась всего сорок минут. Мне показалось, она была длинной в целую жизнь. И теперь их у меня две. Мы не можем утверждать, что атомная частица существует в той или иной точке, и не можем утверждать, что ее там нет. Будучи вероятностной схемой, частица может существовать одновременно в разных точках и представлять собой странную разновидность физической реальности: нечто среднее между существованием и несуществованием.
Вера с трудом приоткрыла веки и увидела меня. И лицо, и голос ее были неузнаваемы. Словно это лежал под серой застиранной простыней, натянутой почти по самые глаза, совсем другой человек, донельзя отяжеленный грузом нового необычного понимания здешнего мира. Мне показалось, что мы теперь не сразу сможем с Верой найти общий язык, если вообще сможем. У всех здешних больных такие лица, которых вы не увидите ни в обычном хирургическом отделении, ни, тем более, в терапии.
На них и Вселенская оскорбленность за свой диагноз, и глухое презрение к самим себе, и, страшно сказать, преодоленный страх смерти и чуть ли не особое, возвышенное уважение к ней. Таких отрешенных, философских лиц в онкологии немало. Я шел за каталкой. Вера, кажется, снова спала. Ее головушка покачивалась то влево, то вправо. В такт с подпрыгиванием дерзко стучащих колес.
У дверей реанимации она вдруг медленно приоткрыла глаза и как подвынырнула в этот мир из глубин Вечности.

Вера тихо, словно бы даже не мне, шепнула чужим, нечеловеческим голосом: «Воды…» В настоящее время известно около субъядерных частиц, которые принято называть элементарными.
За исключением фотона, электрона, протона и нейтрино все они время от времени самопроизвольно превращаются в другие частицы. В буфете стационара меня без длинных объяснений завернули: «Приемка товара! Правда, в неположенном месте.
Пешеходный переход расстелил «зебру» как ковровую дорожку метрах в двухстах от меня. Стремительно темнело. Грозовой вал старательно заасфальтировал небо над городом. Вся эта грандиозная небесная работа совершалась в полной тишине.
И тишина эта была такой объемной, что, казалось, в нее можно провалиться. И тут этот резкий удар слева. Точно хук от невидимки. Удар отозвался во мне такой болезненной вибрацией, от которой способна оторваться челюсть. Словно в меня воткнули работающий отбойный молоток.
Это была молния. Она врезалась метрах в трех от меня. При этом никаких световых эффектов. Только сокрушительно трескучий звук, способный сбить с ног. Я упал. Вернее, опрокинулся на горячий июльский размягченный асфальт. Все равно приземление было достаточно жестким. На память о себе молния оставила мне густой жужжащий электрический рой в голове, глухоту, онемевшую левую щеку и надежду на особое мистическое просветление в итоге. Полежав ровно столько, чтобы никто не успел отреагировать, как этот слишком куда-то торопившийся гражданин оказался ничком на асфальте, я неуклюже поднялся.
Шел, само собой, медленно. А вы бы смогли бежать, когда у вас под носом взорвался миллиард вольт. И никак не менее того. В аптеке я не сразу смог вспомнить, зачем я сюда пришел. Потом я не мог вспомнить, какую минеральную воду пьет Вера. Взял «Святой источник». Название показалось уместным для сложившихся в нашей жизни обстоятельств. Когда я вернулся, Веру уже закрыли в реанимационном блоке. Terra Incognita.
Но я и туда смог войти. Особенно после удара молнии. Не применяя шоколад, духи или коньяк. У меня открылось какое-то второе или даже третье дыхание. Как бы там ни было, никто из персонала меня не остановил. Просто все молча сторонились. Возможно, я мог искрить. Или флюоресцировать.
- Чем Полезен Гематоген
- Почему Женатый Любовник Не Дарит Подарки
- Какая Самая Большая Машина В Мире
- Чем Лучше Опрыскивать Деревья Осенью
- Черный Абиссинская Кошка
- Чем Бактерии Отличаются От Вирусов
- Почему Снятся Кошмары После Запоя
- С Чем Носить Короткий Кардиган
- Чёрные Кроссовки С Чем Носить
- О Чем Говорит Низкий Гемоглобин